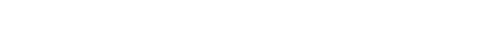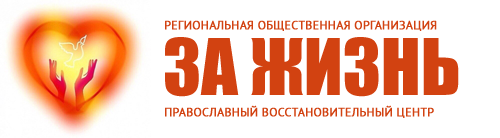Смерть иерея. Рассказ о севастопольском священнике Андрее Григорьеве
 Надгробная плита (не оригинальная) над захоронением свящ. Андрея Григорьева и его супруги
Надгробная плита (не оригинальная) над захоронением свящ. Андрея Григорьева и его супругиВ этот будний день зимнего месяца я иду между могил старого Севастопольского кладбища. Долго я здесь не был, пожалуй, месяца три. Да, в последний раз – в сентябре. Тогда деревья и кустарники были еще зелеными. А сейчас везде безлистные скелеты деревьев, только изредка миротворящие кипарисы напоминают о непреходящем покое.
За большим крестом с распятием Христа, поставленным около тридцати лет назад, в конце главной аллеи – старая кладбищенская церковь Всех Святых. Сейчас возле нее безлюдно, утренние молебны завершились, у северной двери сегодня не стоит катафалк, увозящий покойника после отпевания на загородное кладбище на окраине города.
Со стороны алтаря начинаются несколько дорог. Мне по южной. Плотно стоят железные ограды по обеим сторонам, осыпавшаяся листва скрывает следы тропинок между теснящимися могилами. Крестов вокруг почти нет. За изгородями из железной арматуры над прахом погребенных по новым обрядам стоят бетонные, железные, цементные пирамиды и цветники. В немногих сохранившихся христианских захоронениях – разбитые постаменты бывших каменных и чугунных крестов, на их месте гранитные плиты с именами новопохороненных в оградах оскверненных разрушенных могил.
В центре протяженного квартала похоронены мои родные. Здесь три поколения, четыре памятника. На трех – следы некогда стоявших высоких крестов. Давно, став старшим в роду, поправляя могилы в ограде, я нашел у подножия памятников прикопанные обломки. Кресты у могил ставил прадед. Когда-то пришел срок ему хоронить своих родных, приобрести участок на христианском кладбище под будущие захоронения, заказывать панихиды, поминать усопших в молитвах на литургии.
Многие годы, со дня основания кладбищенской церкви, прихода и причта она не имела. Отпевания в церкви совершали седмицами очередные священники: первые годы – военные Николаевского Адмиралтейского собора, позже – епархиальные Петропавловской церкви. В 1880 году по ходатайству городской думы один из священников Петропавловского причта был назначен к постоянному служению в церкви Всех Святых. С ноября все отпевания и погребения на севастопольском городском христианском кладбище стал совершать рукоположенный из диаконов во священника Андрей Григорьев.
Пять лет отец Андрей заведовал кладбищенской церковью, оставаясь в притче Петропавловской церкви на Большой Морской улице церкви. Летом 1885 года указом Святейшего Синода церковь Всех Святых была сделана самостоятельной, с отнесением к новому приходу помимо кладбища жителей второго полицейского участка Севастополя. Теперь сюда, в свою приходскую церковь, на воскресные литургии стал ходить со своими сыновьями владелец дома по улице Наваринской, 19, мой прадед Григорий.
Тяжело приходилось новому настоятелю, единственному священнику церкви, каждый день, кроме воскресений и праздников, совершавшему погребения усопших жителей не только своего прихода. Тридцать, сорок человек в месяц, а во время эпидемий много больше.
По вызову прихожан отец Андрей торопился в дома и городскую больницу к уходящим, спешил исповедовать и причастить умиравшего, прочитать отходную молитву. На третий день отпевал усопшего в кладбищенской церкви, провожал к свежевырытой могиле, совершал панихиды на девятый и сороковой день после смерти. В родительские дни в переполненной церкви служил парастас и панихиду по всем усопшим.
На проскомидии, вынимая из заупокойной просфоры частицы за усопших, именовал каждого записанного в поминальных записках и поминальных книжках, приносимых в алтарь единственным псаломщиком. В литургии верных, совершая молитвы Возношения Святых Даров, снова поминал всех усопших, погребенных на кладбище: «Боже, вспомни всех усопших в надежде воскресения и жизни вечной. И упокой их там, где все озаряет Свет лица Твоего».
Невоскресные дни были заняты служением панихид у могил умерших в дни их рождения и смерти. И, конечно, бракосочетаниями и крещениями детей прихожан. Приход увеличивался, население множилось, помимо улиц центральной части полицейского участка застраивались окрестные Карантинная, Рудольфова, Цыганская, Туровская слободки, появились династии прихожан Всехсвятской церкви. В 1889 году священник крестил новорожденную младеницу с наречением имени Алевтина, будущую жену старшего сына прадеда – Димитрия.
Немногое свободное время иерея было отдано семье. Вспоминали супруги сочетание браком певчего Симферопольского Александро-Невского собора двадцатичетырехлетнего Андрея и двадцатилетней дочери симферопольского купца Аграфены, рукоположение во диакона, рождение первенца Симеона, рождение сыновей и любимых дочерей каждые два года, перевод в Севастополь, рукоположение во иерея Всехсвятской церкви; и сейчас – топот ножек и детский смех в комнатах дома у кладбищенской ограды. Вместе с матушкой отец Андрей растил одиннадцать детей.
***
Проходят чередой в земной жизни счастье и горе, радости и скорби, солнечный день и смертная ночь. Растет христианское кладбище, поднимаются по склонам Карантинной балки ряды могил, вереницы похоронных дрог стоят в очереди у церкви Всех Святых. Пришло время отцу Андрею приобрести место на кладбище для своих родных. В десяти саженях от западного входа в церковь в участке Григорьева появились могилы четырех сыновей от шести до двух лет от роду, умерших от скарлатины и кори.Росли дети, юноши после гимназии обучались в университете и институте, старший сын Симеон после военного училища служил в чине штабс-капитана в Севастопольской крепостной артиллерии, старшая дочь окончила женскую гимназию, младшие еще учились. Мирные и покойные лета настали у Андрея и Аграфены, скоро станут взрослыми, самостоятельными все дети, скоро женятся и выйдут замуж, скоро будут радовать чету многие внуки.
Радостно начался 1901 год: в штате церкви появились давно ожидаемые второй священник и второй псаломщик, стало возможным чередовать службы, а в августе женился старший Симеон.
Перед Рождественским постом 1901 года приболела Аграфена. Ослабела, кашель замучил.
– Не хлопочи столько по дому, любимая. Кончится Четыредесятница, наступят Рождество и Богоявление – пройдет болезнь.
С праздниками болезнь стала уходить. Только кашель еще оставался.
– Легче мне становится, батюшка. Еще неделя-другая, снова твоя веселая Груня забудет об усталости.
Наблюдавший больную доктор предупредил священника о скоротечной чахотке. В январе 1902 года Аграфена тихо скончалась. Похоронил жену отец Андрей рядом с ушедшими сыновьями. Ее могила стала пятой.
В начале апреля у сына Симеона и невестки Евгении родился мальчик, внук, которого так ожидала усопшая матушка. На восьмой день крестил его сам священник Андрей и нарек его Сергием. «Видит сейчас Аграфена крещение и радуется внуку».
Через месяц, на третий день по прошедшей Пасхе, внук Сергий умер. Хоронил его иерей. Рядом с Аграфеной появилась еще одна могила.
В наступившую Радоницу священник возглавил ежегодный крестный ход от церкви вдоль ограды кладбища до склепа с высоким мраморным крестом и распятым Христом, совершил общую панихиду, осеняя крестом могилы и верующих. «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих…»
Пришла Троицкая родительская суббота, поминальный день наступившего лета, снова иерей совершал заупокойное бдение, молился о всех почивших, «зде лежащих и повсюду православных», помянул своих Аграфену, сыновей Иоанна, Григория, Василия, Михаила, внука Сергия.
Через месяц с небольшим настал день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. На пятый день по празднику священник Алексий Григорьев скоропостижно скончался.
***
На западном склоне кладбища у меня еще одна могила. Я поднимаюсь через чащу кустарника, прячущего провалы разоренных склепов. На обновленном памятнике надпись «р. Б. Димитрий. От сына и внука». Дед умер в 1951 году. В те годы на памятники кресты не ставили. Плиту с крестом возложил уже я. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего.Возвращаюсь я другой дорогой. Нужно посетить могилу священника Андрея Григорьева.
***
Долго я не мог найти место захоронения иерея.В 1910–1911 годах археограф и генеалог Виктор Чернопятов исследовал Крымские христианские кладбища, тщательно и дословно списывал эпитафии с надгробных памятников. На севастопольском кладбище на двух памятниках вблизи входа в церковь он зафиксировал надписи: «Священникъ Андрей Ивановичъ Григорьевъ, родился 30 ноября 1844 года; умеръ 17 іюля 1902 года», «Аграфена Константинова Григорьева; родилась 23 іюня 1848 года, умерла 27 января 1902 года». После закрытия церкви в 1938 году памятники были разрушены.
В начале девяностых годов Севастопольский музей выполнял съемку старого кладбища с обозначением захоронений, на которых сохранились имена. Материалы съемки были сданы в государственный архив, где находились под грифом для служебного пользования. Доступ к ним был открыт только в 2020 году изданием книги «Старое городское кладбище Севастополя» с перечнями погребенных и планами расположения захоронений.
Руководствуясь книгой, я отправился на поиск могил Григорьевых. Неподалеку от входа в церковь в первом ряду памятников в сохранившейся старой ограде – большое захоронение двух поколений флотских офицеров Моффет, их жен и детей. Когда-то здесь стояли три больших мраморных памятника, сейчас два. На месте разрушенного центрального в могилах Моффет похоронены Александра Перфильевна Б., Варвара Григорьевна С., Елена Сергеевна К.
Во втором ряду, за захоронением Моффет, должны быть памятники и могилы Григорьевых. Этот участок занимает большой бетонный памятник: Павел Петрович М., похоронен здесь в 1967 году. Площадка вокруг выложена цементной плиткой, следов памятников от Чернопятова и детских могил нет.
Помогла мне чудесная Ольга Малиновская, севастопольский некрополист.
Ольга показывает фотографию участка, снятую при обследовании тридцать лет назад. На карточке на сером камне читается фамилия Григорьева. Мы подходим к серому камню у края ограды. После очистки поверхности плиты открываются крест и писанная новой орфографией надпись, с сокращениями, с неточностями в датах: «Аграфена Константиновна Григорьева, род. 1847 г., сконч. 1902 г. Священник Андрей Иванович Григорьев, род. 1845 г., сконч. 1902 г.»; плиты, заново изготовленной после открытия церкви Всех Святых в 1942 году верными прихожанами и одним из двух протоиереев: Стефаном Желтиковым и Михаилом Соболевым, служивших в храме с 1942 по август 1944 и с августа 1944 по ноябрь 1945 годов.
***
Следующий день по празднику славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 1902 года выпал воскресным. Литургию 13 июля совершили священники Андрей и Александр, причастились Святыми Дарами у престола. С понедельника началась очередная седмица служения отца Андрея. Первые три дня батюшка совершал отпевания. В четверг, 17 июля, было лишь одно крещение младенца, сына севастопольского мещанина Ключарева.Требы закончились, церковь опустела. Псаломщик гасил догорающие свечи. Отец Андрей молился в алтаре у престола. Через узкие окна яркие лучи июльского солнца падали на стоящего на коленях перед престолом священника.
***
Запись в метрической книге, данной из Таврической духовной консистории причту Всехсвятской кладбищенской церкви г. Севастополя для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1902 год. Часть третья, «О умерших»:«Месяцъ и день смерти – 17 іюля. Месяцъ и день погребенія – 19 іюля. Званіе, имя, отчество и фамилія умершаго – священникъ кладбищенской Всѣхъ Святыхъ церкви г. Севастополя Андрей Григорьевъ. Лѣта умершаго – 57. От чего умеръ – апоплексическаго удара. Причащался при Литургии незадолго до своей смерти».
Георгий Огородников
Православие.ру
22.07.25
355 просмотров
0 комментариев
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!