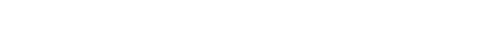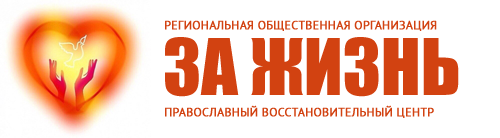«Первую песнь воспели Ангелы при Рождестве Христовом». Беседа с регентом хора Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов Евгенией Тиховой
 Евгения Тихова
Евгения ТиховаОпубликовано на портале «Азбука веры»
Но теперь хочется поговорить о чисто церковной музыке, которую исполняет хор на богослужениях. С этой целью мы встретились с Евгенией Тиховой, регентом хора «Корсунь» Свято-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов г.Севастополя, руководителем детского хора «Корсунь», преподавателем музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова высшей категории. Евгения Владимировна занимается регентством с 1991 года.
– Евгения, почему в православном богослужении нужен хор и вообще – пение? Разве не достаточно молитв священников, диаконов, чтецов? Зачем необходимо музыкальное сопровождение?
– Это нельзя назвать музыкальным сопровождением, это богослужебные пение, которое является неотъемлемой частью служения в Церкви вообще. Мы знаем, что впервые Ангелы воспели песнь при рождении Богомладенца Иисуса Христа: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение! (Лк.2:14). Это было первое песнопение, которое славило Христа. Видимо, это традиционно, что пение сопровождает богослужение всегда. Так было и в ветхозаветной Церкви, только там богослужение сопровождалось игрой на музыкальных инструментах, что мы знаем из истории Ветхого Завета.
Когда начинается история Нового Завета, песнь новую воспели Ангелы. И вообще считается, что человеческий голос наиболее приближен к ангельскому пению. Поэтому, видимо, так сложилось, что славим мы Бога пением. И поем мы без сопровождения каких-либо музыкальных инструментов, которые являются производными материального мира. Человек богоподобен, и пение человека – это пение души, пение, которое могли исполнять и Ангелы. Богослужение традиционно сопровождается пением хора.
– Евгения, Вы сказали, что православное богослужение совершается без сопровождения музыкальных инструментов. Но почему? Вот, у католиков прекрасная органная музыка за богослужением. Протестанты вообще устраивают целые концерты прославления Христа.
– Начнем с того, что католики вообще отошли от традиционной Церкви, мы знаем, как это все произошло. А когда начинаются какие-то отклонения в сторону, возникают «побочные эффекты». И орган, возможно, одно из них. Я бывала в католических храмах на богослужениях. Когда ты туда заходишь, тебя начинает подавлять вот это мощное звучание органных труб, и ты начинаешь ощущать себя какой-то маленькой песчинкой на земле. Тебя подавляет это величие, этот поток звуков, который на тебя льется. И ты понимаешь, что это играет инструмент, который, в принципе, изобретен человеком.
А когда мы заходим в православный храм… Я слышала много разных хоров и мое убеждение, что пение должен вплетаться в ткань богослужения, причем пение вторично в храме. Первична – молитва в алтаре. И тогда многие верующие, стоя в храме, мысленно подпевают нам, потому что очень многие знают тексты богослужебные, песнопения – особенно те, кто часто, регулярно ходит в храм.
– То есть пение помогает молитве? Оно не отвлекает верующего от сокровенной молитвы?
– Я думаю, что это, в принципе, очень индивидуально. Задача богослужебного пения – не отвлекать человека от молитвы. К сожалению, во многих храмах, такое есть и у нас в городе, люди более душевно воспринимают музыку, нежели духовно. Задача церковного хора – не вызывать какие-то эмоции, которые заставляют человека рыдать от умилительности, а наоборот, чтобы человек сосредотачивался на молитве, чтобы музыка, пение, не мешало ему думать.
– Кстати, хотелось бы вернуться к католикам. Почему у них именно органная музыка в храмах. У католиков во главу угла поставлено «compassio» – сочувствие, сострадание – сострадание Христу, то есть – эмоции. И орган действует на эмоции, на душевную часть. Молитва как обращение к Богу отходит на второй план. Это верно?
– Видимо, да. Но вы знаете, у католиков богослужение не всегда идет под орган. Мы поем в православном храме «а капелла». Откуда появился этот термин? Он появился из католической церкви. Когда возникла традиция органной музыки, орган могли позволить себе только богатые храмы, в городах. В деревушках итальянских были маленькие церквушки, в которые, во-первых, орган некуда было поместить, а во-вторых, просто не было денег, чтобы его купить. Вот эти маленькие церквушки назывались «капелла». И люди, которые приходили туда молиться, пели без органа, в капелле. Так появился термин «а капелла», то есть – «петь как в капелле», петь без музыкального сопровождения.
– Вы руководите взрослым и детским хором собора. Чем отличается их пение? С кем легче работать?
– Мне, как профессиональному музыканту, конечно, легче работать со взрослым хором. Потому что, чтобы хор пел, и пел достойно за богослужением, певчий должен обладать определенными навыками. Желательно, чтобы человек был с музыкальным специальным образованием, с которым я разговариваю на музыкальном, профессиональном языке. Это легче, нежели работать с детьми.
Дело в том, что детей очень трудно заинтересовать именно богослужебным пением. Тут процесс такой, что он должен идти исподволь, незаметно, может, в начале даже в форме какой-то игры. Дети не так серьезно все воспринимают, ту же молитву. Работаю с ними через какие-то образы. С начала – какие-то детские песенки с христианской тематикой, которые рассказывают о событиях Нового Завета. Потом, постепенно, мы начинаем петь небольшие произведения: тропари праздников, например.
При этом я, конечно, стараюсь рассказать детям, о чем мы поем, о событиях, которые звучат в произведении. Просто русским языком рассказываю, что поется в тропаре на церковно-славянском языке. Они иногда просто не понимают текста тропаря. Ведь не все дети из хора регулярно ходят в храм, не все ходят в воскресную школу, есть у меня и такие. С ними просто никто об этом не разговаривает. Для них часто церковно-славянский текст в тропарях – как иностранный язык.
Но когда они начинают подрастать, очень важно, чтобы дети почувствовали сопричастность молитве. Мне очень помогли наши три поездки в Москву, когда мы принимали участие в Патриаршей Литургии. Дети пели в Сводном детском хоре Русской Православной Церкви. Они просто не ожидали, что 600 детей, со всей страны, поют вместе. Мы поем одни и те же песнопения, славим Христа «едиными усты».
Конечно, одно это событие наших детей просто потрясло. Было столько эмоций! Когда мы обратно в поезде ехали, только об этом и разговаривали. Побывать у таких святынь, послужить с Патриархом, для детей – это стимул. И многих, я думаю, именно на этой службе, Ангел коснулся своим крылом.
Второй и третий раз поехал другой состав детей, и эффект был тот же самый. Некоторых из этих детей, которые стали постарше, я поставила уже во взрослый хор, чтобы они навыкали, смотрели, что такое клиросное служение, насколько оно тяжелое.
– Пение отнимает силы?
– Конечно отнимает! Во-первых, это физический процесс. Тяжело долго стоять. Тяжело сосредотачиваться. Богослужение ведь состоит из очень многих компонентов. Требуется очень большой объём знаний именно по церковному пению. Ты должен мгновенно ориентироваться, какая сейчас будет звучать мелодия, если мы поем что-то не по нотам. Таких песнопений у нас много. Надо владеть церковно-славянским языком, потому что мы поем по «Октоиху», который написан на церковно-славянском языке.
– Евгения, а сами певчие во время пения – молятся, или думают больше, как спеть правильно?
– Я не знаю, о чем они думают, честное слово. Я сама, когда прихожу на клирос, моментально погружаюсь в то, что мне предстоит делать, и до молитвы у меня дело не доходит. Хотя есть исключения. Я молюсь на заупокойных ектениях: когда перечисляют имена почивших – молюсь о своих усопших близких. Молюсь, когда возглашают «на всякое прошение». Когда я не сосредоточена на том, что мы сейчас будем петь, какие ноты нужно открыть, какой тон дать хору, я стараюсь это время использовать, как говорится, для души. Но вообще, если молиться, руководить хором в этот момент просто невозможно, потому что ты погружаешься в себя.
– Часто бывает, что когда в храме за богослужением поет хор, не всегда понятно, что он поет, все-таки это церковно-славянский язык. Важно ли понимать слова или пение хора все равно настраивает человека на молитву, даже если он не понимает текст?
– Нет, текст должен быть понятен обязательно, потому что в церковном пении вся музыка подчинена слову. Я сейчас не беру композиторские сочинения, в которых очень часто бывает непонятен текст, потому что они написаны в композиторской технике. Бывают наслоения голосов друг на друга, в разное время голоса вступают с одним и тем же текстом, и пошла «каша». Это все композиторское.
Когда же поется обиход, как мы называем, то есть песнопения, которые из глубинки вышли, из веков, там текст должен быть понятен обязательно. И даже музыкальное построение любой стихиры, любого тропаря, несмотря на регламентированное количество строк, которые мы распеваем, оно все равно подчинено тексту. То есть в одной стихире у нас может быть семь строк, в другой – пять, в третьей – тринадцать, и тогда сразу меняется музыкальная структура. Но текст, он в таких песнопениях, как правило, силлабический. Силлабический способ распева текста – это когда на один звук мелодии приходится один слог. И тогда этот текст должен быть понятен.
Это первое. Второе – не всегда певчие стараются четко выговорить текст. И третье – это, конечно, акустика. Да, акустика очень многое «съедает». Четвертое – это темп службы. И еще повторю: пение в храме должно быть подчинено действию в алтаре. Вот священник дочитал молитву в алтаре, хор в это время должен закончить песнопение, а не тянуть «красивую музыку». А то отцы вышли на великий вход с чашами, и ждут, пока хор напоется. Это неправильно. Хор должен помогать отцам.
– Я беседовал с музыкантом, композитором Валерием Котивым, он интересную мысль высказал. Почему пение воспринимается лучше, чем речь. При пении диапазон у человека расширяется и пение лучше ложиться на ухо, лучше воспринимается, чем простая речь. Плюс эмоциональное состояние, которое передается через музыку, через пение.
– Я согласна, что музыка больше воздействует на эмоции человека, чем речь. Хотя тут тоже можно поспорить, потому что надо смотреть, какой человек. Если у человека богатое воображение, он слово может пропустить через себя так, что ему и музыка не понадобится. Какая-нибудь фраза, которая заденет за какую-то живую струну в его душе, которая будет созвучна той ситуации, о которой он думает, которой он живет. Я считаю, что музыка здесь не так обязательна. Это все индивидуально.
– Евгения, а в пении, не только церковном, богослужебном, а в любом, которое раскрывает душу, важны слова песни? Или это второстепенно?
– Конечно слова важны. Ведь что такое песня? Это синтез. Всегда пишут: автор слов, автор музыки. Вот, например, я сейчас с ребенком в школе учу шутливую песню про осу. «Бурый мишка жил в лесу, пригласил на чай осу, а она пришла и села у медведя на носу». Видно же, что это шутливая песня. Характер музыки должен передавать шутливость этого текста. То есть под этот текст ты не напишешь музыку заупокойной ектении. Безусловно, песня – это синтез слова и музыки. И когда он совпадает, песня получается.
Должен быть образ. Песня должна создать какой-то образ, который вызовет отклик в душе человека. И бывает, что одному, как говорят, песня «заходит», а другому песня «на заходит». Это зависит лично от человека. Почему одним нравится хард-рок, хэви-метал? Потому что они живут душой в этой субкультуре. Им поставь шестую симфонию Чайковского, они даже слушать не станут, хотя это великая музыка.
А есть другие, как я, например. Я этот хэви-метал просто не слушаю, мне это не интересно. Я люблю классическую музыку. Попсу не слушаю, не интересно. И, учитывая то, что я несу послушание регента уже почти 35 лет, у меня такой багаж слушания музыки, что я сейчас уже полюбила тишину. Я прихожу домой и выключаю все, что у меня может играть.
В моей регентской жизни был период в 90-е годы, когда я знаменным распевом занималась и строчной музыкой. Тогда я слушала неимоверное количество музыки. Понимаешь, это как багаж, который накапливается, накапливается, заряжается, как аккумулятор, и потом ты начинаешь по-другому все воспринимать. Ты вот наслушался одной музыки, потом начинаешь слушать другую музыку и у тебя внутри, ты даже можешь об этом не думать, идет какая-то переоценка, какое-то сопоставление, какие-то кирпичики выпадают, и у тебя складывается какой-то свой, скажем так, музыкальный вкус.
– Благодарю, Евгения, за такой обстоятельный и содержательный разговор!
Беседовал Артемий Слёзкин
11.07.25
357 просмотров
0 комментариев
Пока никто не оставил комментариев к этой статье. Вы можете стать первым!